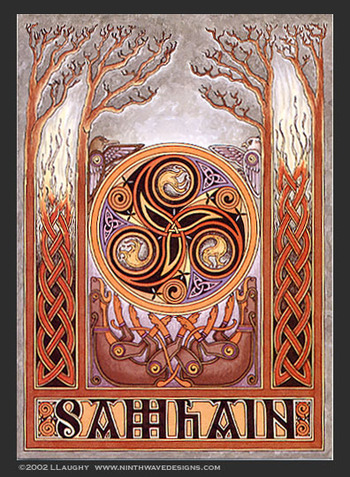 Самайн (an t-Samhain) Самайн (an t-Samhain) (по-шотландски произносится [ˈsaʊn] — «саун» или [ˈsɑːwɪn] — «саувин»; по-ирландски [ˈsˠaunʲ] — «саунь») — в шотландском (гэльском) языке является обозначением месяца, аналогичного современному ноябрю. В ирландском языке «Самайн» (Samhain)[1] — ноябрь. У кельтов издавна обозначает третий месяц осени. Само слово в переводе с древнеирландского обозначает «конец, закат лета». Также у кельтов есть праздник под аналогичным названием Самайн (шотл. (гэл.) Samhainn или Samhuinn, ирл. Samhain), начинающийся вечером 31 октября и длившийся три первых дня ноября. Праздник посвящен окончанию лета, сбору урожая. Самайн иногда путают с праздником День всех святых (Хэллоуин). Самайн - главный кельтский праздник (Праздник перехода к зиме), который открывал один из четырех сезонов, и отмечался дабы задобрить и умиротворить темные силы неизвестного. Конец уходящего года и начало «темной» половины следующего кельты отмечали великим празником Самайном. Вначале он приходился на семнадцатый день второго лунного месяца после осеннего равноденствия. Впоследствии, в результате реформ римского календаря, его дата стала выпадать на ноябрьские календы (1 ноября).
В Галлии праздник длился три ночи (trinoux tion Samon i sindiu os — «Три ночи Самайна с сего дня»), а в Ирландии — семь дней.
Галлы называли себя сынами темного бога Диспатера (Dispater). Все они величали себя потомками Дита-отца и утверждали, что таково учение друидов. Самайн — это и есть праздник Дита.
Самайн считался моментом, когда открывались cиды (могильный курган, врата загробного мира) и все сверхъестественное устремлялось наружу, готовое поглотить людской мир.
В эту ночь бессмертные боги приходили в мир смертных людей, а герои получали доступ в сиды. Наступал краткий период битв, союзов, браков людей с обитателями сидов, уплаты или отсрочки всевозможных долгов. Во время Самайна умирали великие герои и боги.
Особое значение этому празднику придавалось торжественным собранием всех королей, вождей, воинов, друидов и простолюдинов страны. Согласно поверью, любой кельт, не пришедший в сакральный центр страны в ночь Самония, терял рассудок. На следующее утро для него следовало выкопать яму, насыпать могильный холм и подготовить могильный камень.
В эту же ночь друиды зажигали королевский огонь. Всем жителям страны воспрещалось под страхом смерти зажигать огонь прежде короля. Поэтому образ ночи Самайна — огонь в веселом стане на холме.
В Самайн подданные платили владыке подать и подносили дары. Треть плодов, орехов, рыбы, колбасы, пива, молока и хлебов отдавали для жертвоприношений друидам.
Если верховный король страны давал в Самайн отсрочку по выплате подати общине или кому-либо из младших по рангу королей на один день и одну ночь, то это означало, что он отказывается от подати безвозвратно.
После жертвоприношений начинались обильные пиршества, игры и пляски, состязания певцов и силачей.
В праздник Самайна на столе было положено иметь рыбу, колбасы, свинину, сбитое молоко, свежее масло, хлеб и пиво. Король задавал угощение и пир, на котором подавали мясо откормленных за прошедший год свиней. Сытную и обильную закуску уравновешивало внушительное количество выпитого.
Конечно, всенародное торжество, сопровождаемое обильными возлияниями, основательно подрывало здоровье кельтского населения: для большинства веселящихся дело заканчивалось либо пьяной дракой «стенка на стенку», либо жестоким похмельем. «В Самайн у уладов не больше сил, чем у женщины после родов», — свидетельствовал современник. Праздник Самайн также традиционно считался подходящим временем, чтобы избавиться от короля, вызвавшего недовольство правящей элиты. В этом случае неугодного короля подвергали ритуальному умерщвлению: его топили в бочке с вином или просто сжигали живьем в королевском доме.
|